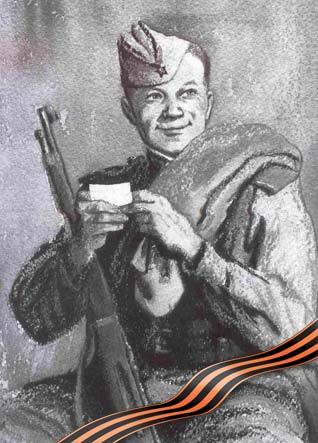Количество стихотворений и поэм, посвященных Великой Отечественной войне, не поддается счету. Встречаются в этом океане ритмов и рифм и слишком пафосные, и откровенно графоманские строки. Но у поэтов–фронтовиков фальшивой ноты не встретишь. И у каждого из них есть свое «ударное» стихотворение. Вот лишь несколько примеров: «Перед атакой» Семена Гудзенко, «Сороковые» Давида Самойлова, «Я убит под Ржевом» Александра Твардовского, «Я только раз видала рукопашный» Юлии Друниной, «Мы под Колпином скопом стоим» Александра Межирова, «Его зарыли в шар земной» Сергея Орлова. Это относится и к героям нашей рубрики — Николаю Старшинову, Сергею Наровчатову, Павлу Шубину, Михаилу Луконину и Иону Дегену.
Николай Константинович СТАРШИНОВ
(1924 — 1988)
Николай Старшинов родился в Москве, в Замоскворечье, в многодетной семье. Стихи писал с 12 лет, занимался в литературной студии. В 1942 году был призван в армию и стал курсантом пехотного училища. В начале 1943 года попал на передовую. Первые стихи поэта были напечатаны во фронтовых газетах. В августе в боях под Спас–Деменском получил тяжелое ранение. Из армии старший сержант Старшинов демобилизовался в 1944 году и сразу же поступил в Литинститут. В том же году Николай Старшинов женился на своей ровеснице, такой же фронтовичке и начинающей поэтессе Юлии Друниной. Со своими фронтовыми стихами (среди них и «Ракет зеленые огни…») Николай Старшинов пришел в Литературный институт и в большую русскую литературу.
Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.
Приказ: «Вперед!»,
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто–то звал родную мать,
А кто–то вспоминал чужую.
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосилили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.
1944
Сергей Сергеевич НАРОВЧАТОВ
(1919 — 1981)
Стихи он начал писать «чуть ли не с пяти лет», а первое опубликовал в пятнадцать — в газете «Советская Колыма» в Магадане, куда семья переехала в 1933 году. Поступил в ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) и одновременно — в Литературный институт. В 39–м ушел добровольцем на советско–финскую войну, где попал в госпиталь из–за обморожения. В 1941 году окончил ИФЛИ и Литературный институт. С началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Осенью 1941 года был направлен на Брянский фронт корреспондентом Газеты «Сын Родины». Участвовал в оборонительных боях, выходил из окружения. Участвовал в освобождении Прибалтики и Польши, наступлении на Берлин. Был ранен. День Победы встретил на Эльбе в звании капитана. Из армии уволился только в 1946 году.
О главном
Не будет ничего тошнее,
Живи еще хоть сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
Стою в намокшей плащ–палатке,
Надвинув каску на глаза,
Ругая всласть и без оглядки
Все то, что можно и нельзя.
Сегодня лопнуло терпенье,
Осточертел проклятый дождь, –
Пока поднимут в наступленье,
До ручки, кажется, дойдешь.
Ведь как–никак мы в сорок пятом,
Победа — вот она! Видна!
Выходит срок служить солдатам,
А лишь окончится война,
Тогда — то, главное, случится!..
И мне, мальчишке, невдомек,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.
Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
1970
Павел Николаевич ШУБИН
(1914 — 1951)
Выпьем за тех,
кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград
пробирался болотами,
Горло ломая врагу!
Это куплет из очень популярной среди освободителей Ленинграда песни «Волховская застольная», написанной Павлом Шубиным в 1943 году… В 1933 году слесарь и студент–вечерник ленинградского Конструкторского техникума Павел Шубин поступил на филологический факультет Пединститута имени Герцена. Окончание института совпадает с приемом в члены Союза писателей и переездом в Москву (1938). Во время войны Шубин — фронтовой корреспондент на Волховском и Карельском фронтах. С бойцами 14–й армии освобождал Печенгу, норвежский Киркенес. Войну закончил на Дальневосточном фронте. Демобилизовался в звании майора.
Полмига
Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;
Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
…Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!
1943 г.
Михаил Кузьмич ЛУКОНИН
(1918 — 1976)
С войны Михаил Луконин принес опыт, полный трагизма, и написал одно из самых пронзительных четверостиший русской поэзии ХХ века: «В этом зареве роковом/ выбор был небольшой,/ но лучше прийти с пустым рукавом,/ чем с пустой душой…». До войны Михаил Луконин успел поиграть в футбол за команду сталинградского «Трактора», но оставил бутсы ради учебы в московском Литературном институте. Как это случилось? Однажды рабочий Сталинградского тракторного завода Михаил Луконин показал свои стихи Корнею Чуковскому. Через некоторое время неожиданно для себя начинающий поэт получил приглашение в Литинститут. После окончании института поэт ушел добровольцем на Финскую войну, а потом на Великую Отечественную. Вместе с Сергеем Наровчатовым пережил «страшные дороги отступления, выходил из окружения брянскими лесами и орловскими нивами в 1941 году…».
Итог войне Михаил Луконин подвел такими строчками:
Четыре года жизни — год за годом,
Четыре года смерти — день за днем
Во имя мира всем земным народам
Бежали, опоясаны огнем.
Все, что свершили, — памятно и свято.
Навеки будут рядом, без конца, –
Могила Неизвестного солдата
И счастье победившего бойца.
Ион Лазаревич ДЕГЕН
(Родился в 1925 году)
В июле 1941 года после 9–го класса Ион Деген добровольно пошел на фронт. Прошел путь от рядового пехотинца до командира танковой роты. Был трижды ранен. В результате последнего ранения в январе 45–го получил тяжелую инвалидность. После окончания войны Деген сделал блестящую медицинскую карьеру, с отличием окончил Черновицкий мединститут, стал доктором наук, профессором, признанным светилом в области ортопедии.
…Более десяти лет назад Евгений Евтушенко опубликовал в «огоньковской» рубрике «Русская муза ХХ века» стихотворение неизвестного автора («Мой товарищ в смертельной агонии») и назвал его гениальным. Михаил Луконин, от которого Евтушенко услышал эти строки, сказал, что о войне никто ничего лучшего не написал. Василий Гроссман оценил стихи настолько высоко, что включил их в «Жизнь и судьбу»: в романе один зэк читает их другому. По одной из легенд стихотворение нашли в планшете лейтенанта, убитого под Сталинградом. А оказалось, что «убитый» с 1977 года проживает в Израиле, где стал одним из ведущих специалистов в области ортопедии и травматологии.
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай–ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
1944