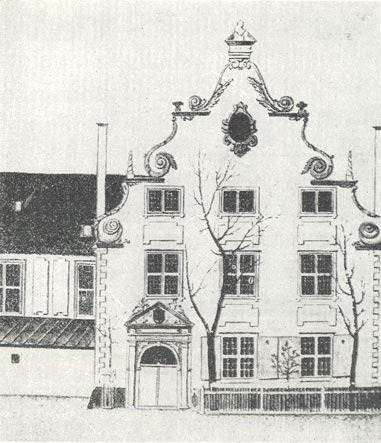В XVIII веке корабли из заморских стран тоннами везли в Ригу серебряные монеты, город казался островком благополучия посреди лифляндской бедности. Но пользовались рижским процветанием уроженцы Германии, Швеции, Нидерландов и других западных стран. А многие местные жители были бесправны.
Вид сверху
250 лет назад в Риге любимым местом для прогулок горожан был городской вал. С 12-метровой высоты открывалась прекрасная панорама города. Горожане могли видеть, что даже в предместьях крыши домов покрыты городской черепицей, что почти сразу за городскими укреплениями начинается прекрасный парк, построенный по повелению Петра Великого. А позади валов на узких улочках Риги ни на минуту не затихало движение. Богатый лифляндский город был деловит и спокоен. Бесспорно, богатый. Когда Ригу посетила императрица Екатерина Великая, то в городе в честь ее прибытия забили фонтаны, полные вина, и каждый желающий мог в неограниченном количестве угощаться жареным мясом.
Стоит ли удивляться, что в 25-тысячной Риге ежегодно съедали тысячи ящиков лимонов, сотни бочек устриц, тонны изюма и множество других заморских яств. Их везли сюда со всего света: польскую оленину и астраханский виноград, вино из Африки и британское пиво, копченое мясо из Германии и швейцарские сыры, гусей из Архангельска и апельсины из Испании, черную икру с востока и анчоусы с запада… Впрочем, заморские корабли спешили сюда не только с дорогими продуктами, изысканными винами и нарядными тканями. Но и с сундуками, полными серебряных монет. Бывали годы, когда через Рижский порт вывозили на Запад на полтора миллиона талеров товаров больше, чем доставляли сюда из Европы. А полтора миллиона талеров это – около 50 тонн серебра. Так что рижским портовым грузчикам приходилось таскать с западных судов не только мешки, ящики и бочки с иноземными товарами, но и тяжеленные сундуки с деньгами.
Отнюдь не промышленность обеспечивала рижанам их богатства. Более того, рижскому бюргеру и в страшном сне не могло присниться, что он был бы занят тяжелой работой на фабрике. Город прекрасно существовал благодаря транзитной торговле. И не случайно в здании ратуши висели не тексты указов магистрата, а курс валют и список прибывших в город кораблей.
Впрочем, далеко не все в богатом городе были зажиточны. Хорошо жили местные бюргеры, не очень хорошо – горожане, не имеющие самых элементарных прав. В изданной в XVIII столетии книге чиновника Рижского магистрата Нейендаля говорилось: «Жители Риги разделяются на граждан, неграждан и иноземцев». Только граждане (бюргеры) имели право вступать в купеческую гильдию, состоять в большинстве ремесленных цехов, занимать должности в городском самоуправлении. Неграждане работали чернорабочими, слугами и занимали другие столь же «почетные» должности. Гражданами города были рижские немцы и выходцы из других стран Западной Европы, среди «негров» насчитывалось немало латышей. Граждане были купцами, мастерами цехов, чиновниками магистрата, юристами, неграждане – слугами, чернорабочими и так далее.
Быть может, разделение рижан по сортам было оценкой заслуг основателей Риги, представителей древних рижских родов, прибывших в город вместе с епископом Альбертом? Ничего подобного! Проведенная в 1786 году перепись населения показала: большинство бюргеров составляли… мигранты, рожденные далеко за пределами города. И такие пришельцы называли негражданами тех, чьи предки жили в Латвии тысячи лет!
Бюргеры из Гамбурга и Данцига
Тайну происхождения большинства рижских бюргеров второй половины XVIII столетия в ХХ веке открыл замечательный латвийский ученый, член-корреспондент Академии наук Латвии Василий Васильевич Дорошенко. Историк детально исследовал результаты переписи населения Риги, проведенные в 1786 году. Перепись велась тщательно: записывались не только данные о работе, семейном положении рижанина, его возрасте, но и, к примеру, о месте его рождения. И вот через пару веков историк отследил судьбы тысяч людей. Что же оказалось? В 1786 году в Риге проживало 445 купеческих семей. Ученый пишет, что лишь 140 членов Большой (купеческой) гильдии оказались уроженцами Риги. 8 человек родились в Эстляндии. А подавляющее большинство появились на свет или не в Риге, или даже за пределами Российской империи. Более сотни рижских купцов, по подсчетами Василия Васильевича Дорошенко, оказались уроженцами герцогства Курляндского. А свыше сотни купцов назвали переписчикам местом своего рождения западные страны – Германию, Голландию, Швецию…
Еще более интересен оказался состав цеховых мастеров. Историк отмечает, что очень многие из них родились на Западе. Василий Васильевич изучил информацию о более чем четырехстах мастеров. И обнаружил, что лишь 85 из них местные уроженцы. Несколько десятков – жители других городов Балтии. А 233 человека (то есть более половины всех мастеров) оказались выходцами с Запада. Что существенно, купец, приехав в Ригу из Германии, хоть капитал с собой привозил. А ремесленный мастер мог приехать в город из-за границы с пустыми руками и быстро занять здесь привилегированное положение. И еще один факт — среди подмастерьев уже половина являлись местными уроженцами. Впрочем, подмастерье – человек подневольный и мог остаться таким на всю жизнь. Так и не выбившись в мастера.
Историческая память
В 1709-1710-м годах рижане сильно пострадали от Северной войны, население сократилось до шести тысяч. И вот в Ригу стало прибывать «пополнение». Не исключено, именно об этом периоде напоминают сегодня некоторые названия рижских улиц. В начале ХХ столетия в Риге стал заселяться новый аристократический жилмассив Межапарк. Обживались здесь в основном богатые немцы, а Рижская дума (опять-таки преимущественно немецкая по своему составу) называла улицы нового жилмассива в честь западных городов: Гамбургская, Любекская, Данцигская… Некоторые из них сохранили свои названия и поныне. Возможно они так называли улицы не из солидарности с далекой исторической родиной, а в память о своих собственных корнях. Потомки мигрантов XVIII века вполне могли в начале ХХ столетия помнить о своей личной родословной.
Итак, немцы приезжали и быстро получали гражданство. Официальным местным языком (немецким) они владели в совершенстве, придерживались господствующей в Риге лютеранской религии. Так что оказывались вполне, выражаясь современным термином, интегрированы.
Впрочем, был случай, когда приезжему из Германии отказали в гражданстве. История бухгалтера Тобиаса Эфлейна весьма поучительна. Он перебрался в Ригу, женился и обратился в магистрат за гражданством (в то время правила натурализации не предусматривали экзаменов). Магистрат, однако, отказал Эфлейну с мотивацией: женат на латышке, то есть женщине неподходящего происхождения. Эфлейн три года судился, жаловался в Санкт-Петербург и, наконец, получил рижское гражданство по воле императрицы императрицы Екатерины Великой. Эфлейну повезло. А тысячи рижан оставались негражданами. Как видите, в нашей стране людей делили по сортам уже давно. Не опираясь на такой аргумент, как события 1940 года…