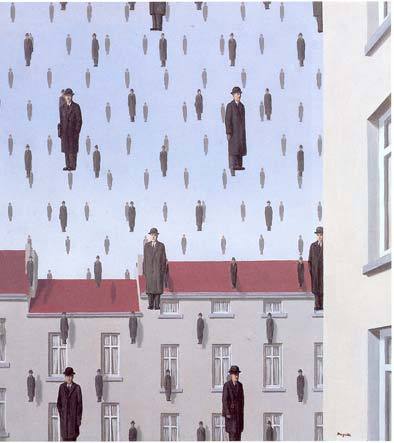На этой странице вы прочитаете статью из новой рубрики Ракурса — «Мысль». Мы предполагаем публиковать в ней материалы, которые объединит одно общее свойство, — раздумья о нашем времени. По замыслу, авторами текстов будут политики, философы, писатели, ученые и т.д.
В первом выпуске предлагаем познакомиться с лекцией, прочитанной в московском клубе Вilingua поэтом, писателем, эссеистом Ольгой Александровной Седаковой.
Меня интересует и всегда интересовало то, что называют внутренней жизнью человека. Во внутренней жизни человек встречается со «старой правдой», как ее назвал Гете. «Правда найдена давным-давно И связала союзом благородные души;
Крепко держись ее — этой cтарой правды».
Эта «старая правда» не изменяется не только от смены политических режимов, но и от космических катаклизмов. Как известно, «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мр. 13:31; Лк. 21:33). Искать ее не надо, она найдена или открыта давным-давно или была открыта всегда. Но что надо искать — это себя, такого себя, который способен ее встретить. Продолжая прибегать к гетевским словам, искать себя «благородного», себя, который состоит в союзе вот с этим обществом связанных правдой душ. Именно на этом месте – пути к себе – мы как раз и встречаемся с политикой в ее исходном, аристотелевском смысле: с политикой как законами общежития, законами гражданства. Потому что к этой самой гетевской “старой правде” нельзя прийти, если ты пойдешь путем новой кривды, то есть равнодушия к тому, что происходит.
Можно привести слова Томаса Манна о том, что политика — это здоровье духа, который вне политического самосознания и действия гниет. Но что такое в конце концов эта политика, это гражданство? С одной стороны, это опыт существования в виду зла. И в виду страдания, чужого страдания, — с другой. Вот что я имею в виду, когда говорю о политике. Здесь каждый человек оказывается свидетелем. Оказывается участником истории – или жертвой истории, как это понимал Бродский: не тем, с кем круто обошлись, а тем, кто по неведению или лени или малодушию оказался сотрудником палачей.
Когда зло принимает откровенно инфернальные формы, а невинные страдания превосходят все меры, как это было, допустим, при Гитлере и Сталине, то союз со злом или даже мирное с ним сосуществование определенно делают для человека невозможным встречу со «старой правдой». Но здесь все ясно — где зло, где добро. Наша ситуация гораздо сложнее: она пестрая и мутная.
«Нашей ситуацией» я называю не собственно российскую ситуацию. Есть общее «планетарное» время, есть положение всей цивилизации, к которой мы так или иначе принадлежим (или будем принадлежать) и ключевое слово которой – либерализм. Вот это-то общее как раз, мне кажется, во всех наших разговорах об актуальности и современности не обсуждается.
Я расскажу одну историю. Однажды в Хельсинки, в университете, меня попросили рассказать в течение одной лекции, академического часа, историю подсоветской культуры и искусства. Я сказала, что героем всей этой истории искусства был «простой человек». От художников требовалось писать так, чтобы это понял «простой человек». От музыкантов требовалось писать такие мелодии, которые «простой человек» (то есть, не получивший музыкального образования и, возможно, не отягченный особо тонким слухом – иначе он уже не «простой») может с первого раза запомнить и спеть; философ не должен был говорить «заумного», «сумбурного» и «непонятного» и так далее, и так далее.
Итак, я рассказываю, привожу примеры, говорю о том, что на могилах многих наших художников, убитых сразу или взятых долгим измором, можно написать: «Их убил простой человек». И, пока говорю, вижу: студенты смущаются, ежатся… Потом ко мне подходили преподаватели и благодарили: «Большое вам спасибо! вот теперь они узнали, что делают». Как выяснилось, хельсинские студенты подходят к своим профессорам с этим самым требованием: «Пожалуйста, не завышайте задач, не требуйте от нас слишком многого. Не говорите нам слишком сложного и заумного. Мы обычные, простые люди, все должно быть для простых людей».
Финляндия здесь нисколько не исключение. Это совершенно типичная картина.
Историй подобного рода я могу рассказать много.
Поэтому я и назвала ту опасность и ту тираническую силу, которая, по-моему, угрожает современности, посредственностью.
Перевоспитание «совка»
Я предлагаю вспомнить, как был осмыслен у нас наш радикальный поворот от общества тоталитарного типа к какому-то другому. От чего предполагалось уйти и в какую сторону направиться. В какую сторону, ясно: в сторону модернизации, вестернизации, достижения того, чем располагает “весь цивилизованный мир”. При этом цивилизованный мир представлялся как мир демифологизированный, рациональный, прагматичный. Избавляться же следовало от господства мифа, от бессознательного, в котором мы пребывали, от «нецивилизованности».
И что же мы получили в конце концов, на самом деле? Отнюдь не реальный, нормально действующий рынок, которого, как все знают, у нас так и нет. Мы получили новый миф и новую идеологию: идеологию рынка. Больше того: поэзию, романтику рынка. «Совка» — со старым пренебрежением, замечу, — взялись обучать всему, чего у него не хватает. Не хватало ему, как оказалось, прежде всего хулиганского индивидуализма, который был провозглашен в качестве новой нормы – на место мифического «коллективизма». Индивидуализм без берегов. Индивидуализм человека, который живет не среди себе подобных, не среди других людей, имеющих с ним общие интересы, — но против всех. Другое называлось «совковостью», «советским идеализмом», «советским аскетизмом» и т.п. Такого рода высказывания несут в себе тон вызова, провокации. Говорить так — дело обличителей общества, для которых в этом обществе предусмотрено свое место. У нас же такая «искренность» стала первым словом о вещах, стала системой воспитания. Воспитания – как я уже говорила – очередного нового человека, на этот раз современного, западного, продвинутого.
Это перевоспитание, конечно, основано на некотором анализе прошлого. Перевоспитание должно было начаться с того, чтобы решительно покончить со всяким романтизмом, гуманизмом и идеализмом. Новый человек, успешный человек, — это спокойный циник и агностик, находящий комфорт в том, что ничего нельзя узнать, что «все сложно». Следует быть обывателем, в котором не осталось никакой пассионарности, и все, что ему нужно, — это гарантии, это отсутствие риска, комфорт и безопасность. Если такой тип наконец восторжествует, мы будем жить в цивилизованном обществе. История кончится, потому что такой вот мирный обыватель не любит войны: зачем ему это все; он вылечен на сеансах психоанализа, он уже не невротик, как герои и гении. Всем ведь давно известно, что невротик и герой — одно и то же, а гений — патологическое явление.
Вся эта библия либерализма принимается без малейшего сопротивления. Интересно, что эта сверхкритическая идеология антиидеологизма не дает критиковать себя. Каждый, кто выскажется против какого-нибудь из ее догматов, рискует репутацией: он будет быстро приписан к лагерю реакционеров, элитаристов, клирикалов и не знаю кого еще.
Выводы сделаны, картина сложилась и далее не обсуждается: да, это романтики, это поэты, идеалисты, аскеты, фанатики — это они виноваты в революции, это они все погубили, мы расхлебываем их поэтические замыслы.
На самом деле, есть другие осмысления происшедшего, и другие поиски его источника, которые мне кажутся гораздо более правдоподобными и которые, как мне кажется, до сих пор внимания к себе не привлекают.
Зал смеялся. Мне было не до смеха
Я имею в виду художнические анализы. Не политологов, не социологов. Я имею в виду, например, «Собачье сердце» Булгакова с его замечательным героем — хулиганом, недочеловеком. Мне пришлось однажды смотреть блестящий спектакль по этому сочинению Булгакова в Эдинбургском театре. Шариков, к моему удивлению, был как живой, знакомый, как говорится, до боли. Зал смеялся, а мне было не до смеха: передо мной проходила наша история, победители и властители нашей страны. Диагноз: источник происшедшего — хулиганство, хулиганство как исторический феномен. Он возникает каждый раз, когда кончается аграрная цивилизация и люди из деревни приходят в город. В своем роде такое вторжение хулигана переживали все европейские страны. Не в той же ли среде зарождалось нацистское движении?
Из диагноза следует путь лечения. От чего же требуется исцелиться: от поэта, романтика, идеалиста, аскета в себе? или же от люмпена, хулигана, бесстыдника? Так вот, если герой тоталитаризма — булгаковский люмпен, хулиган, то это совсем другая история и из нее следуют другие выводы.
Я хотела бы уточнить одну вещь: что я, собственно, имею в виду, говоря о посредственности, о том, что называли «маленьким» или «простым» человеком. Посредственностью, которая составляет социальную опасность, я отнюдь не называю человека, у которого нет каких-то специальных дарований, — совершенно не это. Я называю так человека паники, панического человека; человека, у которого господствующим отношением к жизни является страх и желание построить защитные крепости на каждом месте. Какую же опасность представляет собой человек, который не может открытым образом встретить реальность? По-моему, очень простую.
Во-первых, это человек бесконечно манипулируемый, тогда как того, кто не так боится, труднее принудить к чему угодно. Во-вторых, он постоянно настаивает на все большей и большей герметизации мира, замкнутости от всего иного, поскольку во всем другом есть риск.
Я с большой радостью прочла в одном из посланий Иоанна-Павла II ответ на вопрос: “Кто виноват в расколе христианских церквей?” Папа отвечает: “Посредственность”. Посредственность — это желание обойтись без малейшей гибкости, без всякой открытости, держась за раз и навсегда принятые обобщения, которые заменяют личный опыт, заменяют то, с чего я начинала, — старую правду.
…Представим себе цивилизацию, которая достигла полного торжества посредственности.Она, несомненно, открывает двери крайнему риску, фанатизму, потому что фанатизм — это другой способ переживания той же самой неуверенности и того же самого страха. Это мы и видим в последние годы: столкновение мира без идеологии, без способности сопротивляться злу (поскольку нет худа без добра), без способности жертвовать (поскольку последняя ценность этого мира – продолжение существования почти любой ценой) и людей, которые очень твердо знают, что всегда и на всяком месте нужно делать, и не задумавшись пожертвуют ради этого и другими, и собой.
Опубликовано на сайте «Публичные лекции polit.ru»
Печатается с сокращениями