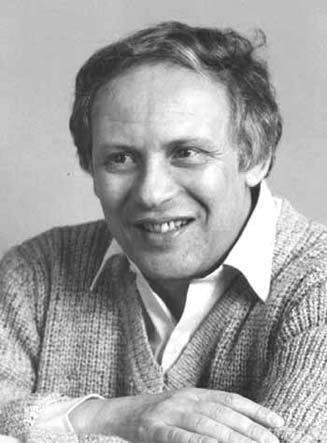(родился в 1936 году)
В 1960 году молодой поэт Дмитрий Бобышев встретился с Анной Ахматовой, которая позже (1963) посвятила ему стихотворение «Пятая роза». Вместе с Анатолием Найманом, Евгением Рейном и Иосифом Бродским он вошел в ближайший круг ее молодых друзей — «волшебный хор». С Найманом и Рейном Бобышев сближается еще во время учебы в Ленинградском технологическом институте, где всех троих подвергают различным идеологическим проработкам за выпуск стенгазеты «Культура».
После института он работал инженером, редактором в техническом отделе Ленинградского телевидения. В СССР печатался редко и случайно. Больше — в самиздате и эмигрантских издательствах («Синтаксис», 1959–1960). С 70–х публиковался только на Западе. В одном из интервью он вспоминает: «Примерно к середине 70–х я понял, что печататься, как я хочу, в СССР невозможно, и стал переправлять рукописи за границу. У меня вышло несколько публикаций в ведущих эмигрантских журналах, а затем в самом начале 79–го года в Париже была опубликована книга стихотворений и поэм «Зияния». К тому времени я внутренне был готов уехать».
В том же 79–м поэт, женившись на американской подданной русского происхождения, уезжает в США. За океаном Бобышев некоторое время работает чертежником, затем инженером электронной фирмы и даже занимается водоочисткой. С 1982 года преподает в Висконсинском университете, в 85–м переезжает в Умбана–Шампейн (штат Иллинойс), где читает лекции по русской литературе и русскому языку. В 94–м становится профессором Иллинойского университета, о котором Булат Окуджава как–то написал:
Дима Бобышев славно старается,
без амбиций, светло, не спеша,
и меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.
В эмиграции самыми близкими по духу оказались для Бобышева поэты старшего поколения — Юрий Иваск и бывший рижанин Игорь Чиннов (также один из героев нашей рубрики). Кстати, в эссе о последнем Бобышев написал: «Человечеству никогда не больно, но всегда больно человеку». Об этом поэт и говорит с читателем с середины 50–х и до сегодняшнего дня.
Читателю
Книга–то еще и не издана
и тем более — для гаданья
пальчиками не перелистана…
А поэзия — это поющая истина.
Не навеки, так — на года.
Неужели это только с виршами
или может и другой художник
выразить произносимое свыше?
Думаю, что да, тоже.
Ежели сказал, не солгав его,
в слове будет и смысл, и цвет, и вес,
и конечно же вкус, а главное –
верная и о главном весть.
Вылепленное, оно — как пляска,
а в цвете — еще и певчее, вещее…
Сдобное, это же и есть пасха
для тебя, человече.
Люди — всего лишь миры, не более…
У любого мозг — полярный ледник.
Сердце — солнце. Океаны болями
и наслаждениями плавают в них.
Вот им оно и надобно, бесполезное,
но почему–то позарез и вдруг:
это баловство со словом — поэзия,
млекопитающая, как грудь.
Июнь 2001