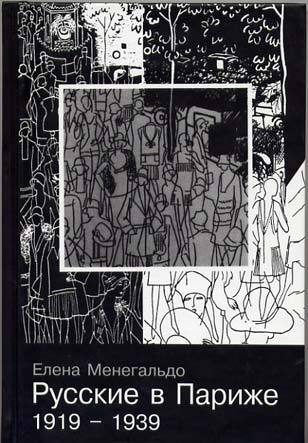Нет русским рая на земле, нет его и выше. Так хочется начать этот разговор о книге Елены Менегальдо «Русские в Париже. 1919-1939». Странно получается. Где бы русский человек ни селился – всюду ему плохо. Или – никак. Или – нормально, это в лучшем случае. Но, пожалуй, никогда от него не услышишь – очень хорошо. А лучше всех – и подавно, таких слов он, похоже, даже не знает.
И не потому, что он всем недоволен. Напротив, русский человек терпелив и непривередлив. Он умеет приспосабливаться к меняющимся условиям, какими тяжелыми они ни были. А если выражает в какой-то агрессивной форме свое недовольство или протест, то исключительно по причинам духовного, интеллектуального порядка. Поэтому у него в роли заводил и вожаков в таких случаях выступает не простой народ, а интеллигенция.
С другой стороны – и это еще более странно и непонятно – куда бы русский человек ни переселился сo своей этнической родины и каким бы милым, уживчивым он ни был, всегда и везде все им недовольны. Объяснить этот феномен трудно. Скорей всего причина в ментальности. И даже не столько в свойствах славянской души (ведь поляки, украинцы, белорусы тоже славяне, но как они сегодня относятся к русским?), а в географическом местоположении мест его исконного расселения.
Исторически психофизика русского человека, окруженного простором «лесов, полей и рек, где вольно дышит человек», отличается широтой души и прочими, происходящими отсюда же свойствами характера. В частности, тем еще, что он вдумчив, склонен к рефлексии и, как говорится в пословице, – медленно запрягает, но коль запряжет, ездит быстро. И вот это, вероятно, больше всего раздражает западные народы, обитающие на территориях намного меньших, чем Россия. Ведь что ни говори, а не приходилось ощущать русскому человеку душевный дискомфорт в восточных землях и тем более где-нибудь в Индии или Китае…
Кому из мемуаристов верить
В этом отношении «Русские в Париже» – книга редкая. В 80-х и начале 90-х годов мы прочитали много мемуарной литературы, написанной известными русским эмигрантами – представителями западной русской художественной и политической элиты. После этого у меня лично, например, напрочь пропало желание читать чьи бы то ни было мемуары и воспоминания.
Объясню почему. Когда их читаешь «вкупе», одну книгу за другой, обнаруживается, что среди мемуаристов трудно встретить двух и уж тем более трех авторов, чьи мнения совпадали бы. Получается, что все мемуаристы – врут.
И второе. У нас сложилось слишком уж идиллическое представление о судьбах русской эмиграции. Романтический миф о жизни эмигрантов на Западе, собственно, и стал причиной, почему многие из нас, если не все люди русской культуры, так легко и безоглядно расстались со своим доперестроечным прошлым. Нам показалось – не без влияния мемуарной литературы, – что в отделившихся республиках мы заживем гораздо лучше и счастливее, чем нам жилось прежде.
Менегальдо этот миф развенчивает. Она делает упор на то, что сложившееся у нас по художественной литературе и разным воспоминаниям представление о русских на Западе – неверно и лживо. Впервые давая широкую панораму жизни всех слоев русской эмиграции в Париже, она показывает, что это была трагедия, а вовсе не праздник души. Конечно, эта трагедия несопоставима с судьбами тех «бывших», кого большевики в России уничтожали. Но кто остался жив, в России устраивались ничуть не хуже, чем если бы они оказались в эмиграции.
Хорошо жили в Париже только те немногие из русских эмигрантов, у кого хранились деньги в западных банках. Да и они быстро оставались на мели. Другое дело – русская художественная элита. Некоторые из них, но тоже далеко не все, сумели ярко заявить о себе в среде парижской богемы. Благодаря чему, пишет Менегальдо, сложилось иллюзорное представление, что «эмиграцию составлял самый цвет русского общества».
Это – заблуждение. Артистической публики среди русских эмигрантов было совсем не много. Остальные, т.е. подавляющее большинство оказавшихся в Париже русских беженцев, были рабочими на автомобильном заводе Рено, официантами, парикмахерами, очень многие – таксистами, и все они жили (почти нищенствуя!) в рабочих кварталах для бедняков. Графья, генералы и княжеские отпрыски, как правило, шоферили. Приобрести по дешевке автомобиль и переоборудовать его в такси было розовой мечтой каждого русского мужчины в возрасте, когда работать на заводе уже трудно.
«Эти степные скифы…»
Так свидетельствует автор книги Елена Менегайло. Она – профессор университета в Пуатье, дочь русских эмигрантов первой волны. Книга ее хороша тем, что это не мемуары, а удачная попытка написать историю русской эмиграции между двумя войнами. Видно, что написана она не просто соотечественником-мемуаристом, а скрупулезным ученым. Дотошно рисующим беспристрастную картину жизни русских на чужбине. Автора больше интересует даже не чем жили русские в Париже, а как к ним относились парижане.
Что характерно: как и нам сегодня в Латвии , русским мирно уживаться между собой не удавалось. Грызлись и ругались по пустякам, завидовали друг другу, а помогали, выручая ближнего своего, крайне редко. Отчасти еще и поэтому нахлынувшие в Париж русские беженцы общее впечатление на местное население производили очень нехорошее. Менегайло подробно рассказывает, как воспринимали русских эмигрантов простые парижане, как к ним относились власти и пресса.
Например, парижские журналисты не скупились на откровенно гадкие эпитеты. Менегайло приводит излюбленные характеристики, которыми газеты дружно одаривают русских: «чудовище, варвар, скиф, странный ребенок, азиат, навечно зараженный желтой, то есть татарской, кровью».
Или вот еще один журналистский перл: «Эти степные скифы с узкими полузакрытыми глазами. В них зияют пустоты, которые ощутимы в развитии этой расы. Это еще просто недочеловеки».
Соответственно относились к русским и парижские власти, ограничивая в возможностях занимать хорошие должности и получать приличные зарплаты. Простые русские на заводе Рено, и вообще где бы они ни работали, были людьми второго сорта, почти как негры в Америке. Потерять работу было легче, чем найти ее. Жалование – ничтожное, жилье – бедное, тесное, но дорогое.
Русский человек художественно одаренный тоже жил почти впроголодь. Известно, например, как скверно жил Бунин. Набоков перебивался уроками. Газданов работал таксистом. О других писателях и говорить нечего. Берберова, например, рассказывала, что она с мужем жила в крохотной квартирке, имея одну пару постельного белья и совсем немного посуды.
О художниках, актерах, музыкантах и говорить нечего. Многие перебивались с хлеба на воду, а кто не бедствовал, все равно жил убого. Русской художественной публике обычно помогали выжить состоятельные соотечественники-евреи. По сути, встать на ноги многим удалось лишь в США, куда они перебирались, спасаясь от наступавших гитлеровцев. Так, например, Набоков и Берберова сразу начали преподавать славистику в американских университетах и стали профессорами. Алданов, кстати, единственный писатель, чья беллетристика пользовалась успехом у парижан, резко пошел в гору тоже в Америке.
Как бы государство в государстве
В Париже, пишет Менегальдо, русские со своим искусством воспринимались как экзотика, как что-то невиданное или модерновое. Часто в таком отношении было немало оскорбительного или просто обидного. Но приходилось держать марку. О знаменитом Нижинском, который в историю русского балета вошел как «божественный гений любого спектакля, прекрасный как солнце, чьи прыжки превышают человеческие возможности», один парижский критик написал, что это – отталкивающее звероподобное существо и «непристойный фавн, а его отвратительные движения преисполнены животной эротичности».
В то же время именно такое скандальное обозначение завораживало зрителя, составляло сенсацию и нравилось публике. Так к Дягилеву охотно шли работать лучшие танцовщики Парижа и самые талантливые художники и музыканты. В том числе и русские. Среди понимающих толк в искусстве парижан в начале века даже начинается мода на все русское, которая продолжается до 1939 года. В конце концов русский балет, русская живопись и музыка оказывают мощное влияние на всю французскую культуру.
Но, как ни парадоксально, это не облегчает участь самих русских эмигрантов. И тогда они просто-напросто создают как бы государство в государстве. Вот та двухобщинная система, которую никак не могут выстроить сегодня русские в Латвии. Она сама собой складывается и существует между двумя войнами в Париже. У русских здесь появляется все свое – они вообще могут жить на свой русский лад, делая вид, что не замечают французов. У русских возникают различные общественные структуры, создаются свои школы и вузы, открываются свои лавки и издаются сто шестьдесят семь (!) русских периодических изданий…
Если русский не хотел или не способен был соприкасаться с парижанами, он вполне мог жить здесь в кругу русского мира. Но таких эмигрантов было не так уж много. Разве что по части своей культуры они старались не выходить за ее рамки. В остальном русские эмигранты в большинстве своем свободно владели французской речью, детей своих отдавали в французские школы и воспитывали их как нормальных граждан страны обитания. Но… отдающих известную дань русскому языку и русской культуре и истории.
Как это удавалось сочетать в русских семьях, даже в тех, у кого в результате ассимиляции обыденная жизнь начинала складываться вполне успешно, Менегальдо описывает очень подробно, всесторонне и поучительно. В то же время настаивая в каждой главе своей книги на кардинальной своей мысли, что Париж не был для русских эмигрантов раем на земле. Всем им очень тяжело далось отречение от России. Да и всерьез, по-настоящему никто из них от нее и не отрекся. Даже дети их и внуки всегда носили Россию в себе.