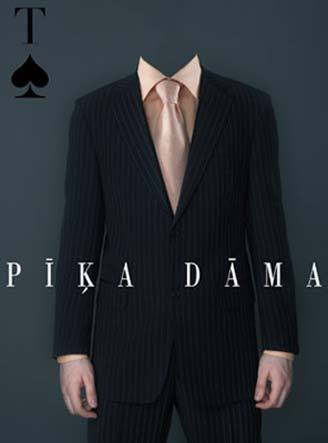«Пиковая дама» ХХI века. Латвийская версия
Весной прошлого года на сцену Национальной оперы вернулась «Пиковая дама» Чайковского. Не терпелось посмотреть спектакль. Правда, первые отзывы на премьеру настораживали: «гротеск», «ирония», «игра с огнем» и даже «театр абсурда». Главные упреки адресовали режиссеру Андрейсу Жагарсу. Я убедилась, что действительно есть противоречия между постмодернистской концепцией режиссера и замыслом композитора, между видимым и слышимым…
Оперная драматургия тем и сложна для постановщика, что она выстраивается прежде всего по законам музыки — вокальной и оркестровой. «Госпожой» в опере является музыка. И глубокое знание партитуры — залог успеха в создании сценического образа. К сожалению, многое из происходившего на сцене не согласовывалось с музыкой Чайковского. Однако премьеры — это только начало сценической жизни спектакля, в дальнейшем он может совершенствоваться.
Во Франции в рамках фестиваля «Поразительная Латвия» «Пиковой даме» предоставили сцену Национальной оперы города Бордо. В прессе сообщалось, что его директор Тьери Фуке дал весьма комплиментарную оценку спектаклю. Он отметил, что видел немало разных постановок этой оперы, причем и очень радикальных, и вполне принимает версию Жагарса, перенесшего действие «Пиковой дамы» в современный Петербург.
Понятно, западные страны не удивишь постмодернизмом. Он вторгся и в нашу театральную жизнь, и классическая опера оказалась одним из самых не защищенных от разного рода экспериментов жанром.
Несомненно, что среди режиссеров, работающих в этом стиле, есть талантливые художники. Например, Алвису Херманису удалось, не вступая в острое противоречие с основной идеей оригинала, обнаружить глубинные параллели между прошлым и настоящим в постановке оперы латышского классика Я. Медыньша «Огонь и ночь» (по Райнису). Жаль, что тот великолепный спектакль исчез из репертуара театра. Но попытки обрядить «Пиковую даму» в современные одежды, придумать героям новые биографии встречают, на мой взгляд, упорное сопротивление музыки Чайковского. Я убедилась в этом еще раз, 14 января снова побывав в театре.
Суворовцы под первомайским лозунгом
В этот раз я отметила стройность звучания в знаменитом квинтете «Мне страшно». Это роковая встреча всех главных героев оперы, завязка драмы. Порадовал и оркестр (дирижер А.Нелсонс) более глубоким раскрытием богатства инструментовки партитуры. Тем большим диссонансом казалось происходящее на сцене. Там в Летнем саду резвятся мальчики — воспитанники Суворовского училища. Не понятно почему их опекают женщины, которые пытаются даже застегивать пуговицы на их мундирчиках. Появляется их воспитатель-офицер, суворовцы по его команде становятся в строй и маршируют под первомайским лозунгом. В бывшем дворце графини Голицыной, здании, что по сей день стоит на бульваре Райниса в Риге, мельтешат медицинские сестры. Там долгие годы находилась поликлиника МВД, а Герман по новой версии – сотрудник органов безопасности. В сцене бал-маскарада под музыку, предназначенную для выхода Екатерины II, и помпезный хор, славящий царицу-матушку, на подиуме появляется «Мисс-Петербург» в купальнике. А чего стоит жестяное ведро, невесть как оказавшееся в руках у Германа, пришедшего проститься с Лизой! Весьма оживляется публика, когда горничная Маша приносит раскладушку российского образца. На ней по воле режиссера Лиза должна начать свою арию «Откуда эти слезы…» — сцена, являющая зрителям высокие чувства Лизы и Германна.
Но, пожалуй, музыкально-драматургическая суть оперы не очень интересует постановщика. Музыка лишь фон для воплощения его режиссерских амбиций.
Так совпало, что в день спектакля в приложении к газете «Диена» появилось интервью, где Жагарс рассказывал о предстоящей постановке оперы Шостаковича. Есть в нем и кое-что о «Пиковой даме». Меня озадачило вот такое откровение: «Оказывается, в опере музыкальный темп часто находится в противоречии с ритмом сценического действия. Как правильно сыграть чувство, уважая при этом музыкальный темп?». То есть 115 лет назад Чайковский должен был писать музыку в расчете на ритмы и темпы сценического действия, придуманного режиссером XXI века?
Бедный наивный Петр Ильич
Трудно предположить, что Жагарс не знает истории «Пиковой дамы», но все же напомню самое существенное.
В конце 1886 года к брату Чайковского — Модесту, известному в свое время драматургу, обратился композитор Н. С. Кленовский с просьбой написать оперное либретто по повести Пушкина. Неизвестно почему, но этот давно забытый композитор через год отказался от намерения писать «Пиковую даму», чем безусловно заслуживает нашу благодарность. И тогда Модест предложил идею брату. Чайковский отказался. Его не привлекал облик Германна — бессердечного эгоиста. В конце 1889 года директор императорских театров И. В. Всеволожский все-таки настоял, чтобы композитор познакомился с планом либретто брата. Так началась работа. Авторы будущей оперы внесли изменения в пушкинский сюжет, и это все определило! Любовь к Лизе — вот та страсть, которая владеет Германом с первого его появления на сцене. Мало того, Лиза из бедной воспитанницы графини превращается в ее внучку-наследницу. Это огромное препятствие для бедного Германна. Потому так притягательна тайна трех карт, дающих возможность и разбогатеть, и обрести счастье с Лизой. На этом и строится вся музыкальная драматургия оперы: стремление к счастью и рок, стоящий на его пути. Кстати, это один из важнейших мотивов творчества Чайковского вообще.
Чайковский о «Пиковой даме»: «Писал я оперу с самозабвением и увлечением». Он уезжает во Флоренцию, где ничто не отвлекает его от работы. Из писем Петра Ильича брату Модесту: «Сегодня писал сцену, где Герман к старухе приходит. Так стало страшно…». «Я испытываю в некоторых местах… такой страх, и ужас, и потрясение, что не может быть, чтобы слушатель не ощутил хоть часть того же». Закончив последние такты оперы, признался что плакал. «Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, — а все время настоящим, живым человеком, притом мне очень симпатичным». Композитор сразу же переехал в Рим, написав брату, что не мог оставаться во Флоренции потому, что «там умер Герман».
Бедный, наивный, сентиментальный Чайковский! Мог ли он предположить, что постановщик «постарается», чтобы слушатель по возможности не почувствовал того, на что так надеялся автор.
«Господь, прости ему…»
Встречу Германа с графиней предваряет музыка, полная душевного трепета, даже отчаяния, с мрачными интонациями и тревожно пульсирующим ритмом. Напряжение нарастает с появлением старой графини. Кстати, в новой версии она совсем не старая, а вполне современная дама, якобы приехавшая из Парижа в Россию получить наследство своих знаменитых предков. Зритель вправе отнестись с иронией к ее воспоминаниям о том, как она пела в Париже перед королем и даже маркизой Помпадур. У братьев Чайковских с появлением Германа графиня оцепенела от ужаса под дулом пистолета. Ее молчание зловеще, но за нее говорит музыка оркестра. Герман, не понимая, что графиня умерла, возобновляет попытку заговорить с ней. В новой постановке графиня не просто молчит, а хватает бутылку шампанского, лихо ее открывает и, обливаясь содержимым, падает замертво. Зритель удивлен, развлечен, драма превращается в фарс. Музыкальная драматургия этой картины, продуманная до мельчайших нюансов, поломана как игрушка.
Весьма «оригинально» решен и финал оперы. По замыслу братьев Чайковских смерть Германа, его самоубийство происходит в окружении карточных игроков — живых людей, потрясенных случившимся. Режиссер же, заменив карты игровыми автоматами (выглядит это довольно эффектно!), уводит всех игроков со сцены, мужской хор звучит за кулисами. Возможности вслушаться в текст у зрителя мало, а текст в данном случае имеет огромное значение. В заупокойной молитве «Господь, прости ему и упокой его мятежную и измученную душу» — православное прощение самоубийце за его страдания. Но внимание зрителя в этот момент отвлечено фанерным ящиком, который опускается на одиноко стоящего среди бездушных автоматов Германа и накрывает его, остолбеневшего от проигрыша.
В упомянутом уже интервью А.Жагарс высказал свое режиссерское кредо: «Как режиссер я не способен работать для консервативного, закрытого, полного предубеждений или малообразованного зрителя». Вот так: или — или. Где-то находится, очевидно, золотая и, несомненно, элитная середина. Я поняла, что это не для меня — консерватора. И не для молодого человека, сидевшего в зале рядом со мной. Знаю, что в театре он оказался по воле случая, знаниями пока не обременен и потому — без особых предубеждений. Но вот его реплика: «Интересно было бы посмотреть это в исторических костюмах! Как-то не подходит дискотечная одежда и движения на сцене к этой музыке».
Что ж, можно закончить на оптимистической ноте. Хорошо, что «Пиковая дама» вернулась к нам! Прекрасно, что наши солисты и оркестр имеют возможность исполнять эту гениальную музыку, а мы ее слушать и горячо аплодировать исполнителям. Отдадим должное их мастерству и эмоциональной самоотдаче. И все же хочется надеяться, что «Пиковая дама» дождется своего часа — более адекватного воплощения на сцене ХХI века.
Прочтения могут быть разные. Главное, чтобы музыка для постановщиков была Госпожой, а не служанкой.