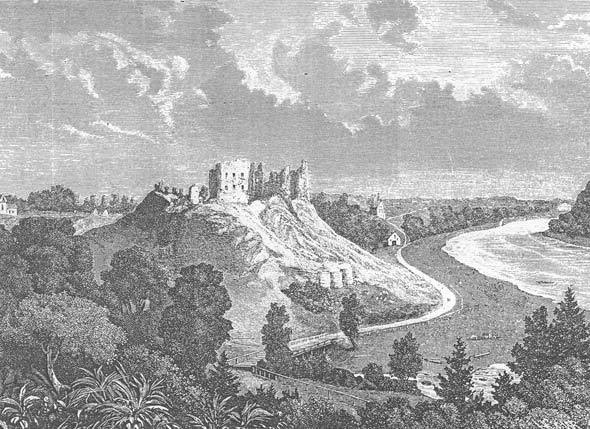Самые-самые
На карте мира есть немало имен выходцев из Балтии. У берегов Антарктиды целое море носит имя первооткрывателя этого материка Фаддея (Фабиана Готлиба) Беллинсгаузена, неподалеку от Чукотки находится большой остров Фердинанда Врангеля, между Курильскими островами размещается пролив Ивана (Иоганна) Крузенштерна, мыс на острове Сахалин назван в честь Федора (Фердинанда) Литке…
Все эти знаменитые путешественники — дворяне из древних родов Лифляндии и Эстляндии. Знать, талантливые были люди! Если бы сегодня в Латвии существовал конкурс на самого выдающегося человека за всю историю страны, представители немецкого лингвистического меньшинства могли бы претендовать на приз во многих номинациях. Самый титулованный ученый? Единственный уроженец Латвии — лауреат Нобелевской премии Вильгельм Оствальд. Самый талантливый изобретатель? Пионер ракетостроения Фридрих Цандер. Самый выдающийся правитель? Легендарный хозяйственник герцог Екаб. Претендентами на звание самого великого полководца вполне могут считаться генерал-фельдмаршал Барклай-де-Толли или генерал-инженер Тотлебен. Самый великий музыкант? Конечно же, Рихард Вагнер! Самый известный правозащитник? Почему бы не Гарлиб Меркель? Самый ярый поборник прогресса? На эту роль есть основания номинировать владельца фабрики «Руссия» создателя первого латвийского автомобиля Александра Лейтнера.
Подобный перечень можно было бы продолжать долго. Конечно, не стоит идеализировать остзейцев. Они пришли сюда как завоеватели, на века превратили местных жителей в крепостных, придумали разделение рижан на граждан и неграждан. Но на их деньги создавалась Старая Рига, в значительной мере благодаря им Латвийская Республика сразу же после своего провозглашения 18 ноября 1918 года оказалась в числе развитых государств мира.
Со всей Европы
Сегодня всех остзейцев традиционно называют немцами. Но это совершенно неверно! Уже в XIII-XIV веках в Лифляндии и Эстляндии жили датчане, голландцы, шведы, представители других европейских народов. Среди известных остзейских фамилий можно найти выходцев почти из всей Западной Европы. Возьмем, к примеру, род уже упоминавшегося мною Врангеля. Он восходит к датчанину — одному из основателей города Таллина. Среди его потомков — 7 фельдмаршалов, 7 адмиралов, более 30 генералов. Так уж получилось, что у нас на слуху чаще всего была фамилия белогвардейского генерала барона Врангеля. В советское время несведующий человек мог даже удивляться: неужели именем такой контры остров называется? Между тем Фердинанд Врангель, в честь которого назван остров у берегов Чукотки, — человек удивительный. Будучи 19-летним мичманом стоявшего в Ревельском (Таллинском) порту фрегата, он узнал о готовящемся выходе из Санкт-Петербурга в кругосветное плавание шлюпа «Камчатка». Он тайно покинул фрегат, где нес службу, и поспешил в столицу, а там уговорил начальника экспедиции взять его хоть матросом. Капитан Головнин не только устроил юного романтика в экипаж младшим вахтенным офицером, но и сумел замять скандал, вызванный его длительной самовольной отлучкой с борта военного фрегата. Головнин не ошибся в выборе: Врангель стал известнейшим путешественником и ученым, членом-корреспондентом Парижской академии наук, российским адмиралом, морским министром. Уже в 70-летнем возрасте российский патриот член Госсовета барон Врангель умолял Александра II ни в коем случае не продавать Аляску американцам. К сожалению, его голос не был услышан.
В Риге также проживало немало выходцев из разных европейских государств. Ныне мы знаем, как выглядела Рига и многие другие города Латвии в XVIII веке, во многом благодаря рижскому педагогу, историку и талантливому художнику чеху Иоганну Христофу Бротце, оставившему сотни рисунков. Современником Бротце был рижский губернатор граф Георг Броун. Этот уроженец Ирландии немало сделал для защиты рижских неграждан, притесняемых местными бюргерами. В XIX веке итальянец, рижский губернатор Филипо Паулуччи, покровительствовал старообрядцам…
Шотландский вклад
В историю Риги внесли весомый вклад даже выходцы из далекой от нас Шотландии.
На наш взгляд, самым знаменитым родом за всю историю города можно считать род Барклаев-де-Толли. Как известно, шотландский купец Питер Беркли поселился в Риге в XVII веке. Среди его потомков — несколько рижских бургомистров и несколько российских военных, в том числе — генерал-фельдмаршал российской армии Михаил Богданович Барклай-де-Толли.
Почти одновременно с Питером Беркли в Лифляндии оказался представитель старинного шотландского рода Левиз оф Менар. В его родной Шотландии бароны Левиз оф Менар известны в графстве Пиблс с XV века. Старшие сыновья наследовали баронство, а младшие отправлялись на заработки в Европу.
В 1629 году шведский король Густав-Адольф завоевал Лифляндию и начал раздавать своим офицерам земли. Майор Вильгельм Левиз оф Менар получил сразу два имения. Король и не ведал, какому славному лифляндскому роду было дано начало 14 мая 1630 года! Левиз оф Менары становились либо учеными, либо военными (среди них — несколько генералов). А самый известный из них — объединил эти ипостаси. Генерал Фридрих (Федор Федорович в русском варианте) Левиз оф Менар — современник Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. В Отечественную войну 1812 года защищал Ригу от наполеоновских войск, был награжден золотой шпагой с алмазами и надписью «За храбрость» и орденом Святого Владимира. Ныне его портрет висит в Эрмитаже в галерее героев той войны. После ее окончания Фридрих Левиз оф Менар вышел в отставку и занялся науками, стал автором сочинений по ботанике, агрономии, истории. Занимался общественной работой, как предводитель дворянства, способствовал освобождению лифляндских крестьян от крепостного рабства. Остается добавить, что Фридрих Левиз оф Менар приходился родственником Пушкину — его супруга была теткой Наталии Гончаровой.
В энциклопедии попали и несколько других представителей этого шотландского рода. Ученый Оскар Левиз оф Менар в XIX веке был известен как специалист по балтийской фауне, Карл Левиз оф Менар — историк и археолог, в начале ХХ столетия обнаружил в Старой Риге остатки старинного укрепления — башни Рамера, в независимой Латвии работал доцентом университета.
Но почему же всех выходцев с Запада в Латвии считали немцами? Дело в том, что осевшие в Риге иностранцы быстро ассимилировались. Ныне рижские журналисты порой называют знаменитого мэра Риги начала ХХ столетия Джорджа Армитстеда сэром. Но, думается, сам «сэр мэр», получивший добротное немецкое образование, ощущал себя скорее немцем, чем британцем. В целом же правильнее говорить не об остзейских немцах, а о большом немецкоязычном национальном меньшинстве. О котором ныне напоминают памятники Барклаю-де-Толли, Джорджу Армитстеду (памятник Фридриху Левизу оф Менар был разрушен в Первую мировую войну).
Рижское «экономическое чудо»
Перед Первой мировой войной Рига разительно отличалась от других городов Российской империи. Мало того что она была самой богатой в стране по размеру доходов бюджета. По целому ряду показателей главный город Лифляндской губернии следовало сравнивать не с российскими городами, а с западноевропейскими. К примеру, по количеству зеленых насаждений в расчете на одного жителя Рига обгоняла большинство крупных городов процветающей Германии. Приехавший сюда в 1914 году из Санкт-Петербурга журналист был изумлен: чиновники Рижской думы получают зарплаты побольше российских министров! Такое благосостояние стало возможным благодаря взлету рижской промышленности, с ее авиационными, автомобильными, электротехническими производствами. А чем был вызван сам взлет? Свободным доступом на огромный российский рынок и умелыми действиями немецкой общины — она как губка впитывала в себя германские достижения научно-технического прогресса, привлекала в Ригу капитал из крупнейшей европейской державы. В свою очередь, высокий уровень жизни в Риге удерживал немцев от отъезда в Германию.
В 1939 году Гитлер договорился с Латвийской Республикой о репатриации немцев. В Риге немецкому меньшинству доходчиво объясняли: вы, конечно, можете остаться, но у вас не будет своих школ, своего театра, своих газет и культурных обществ. А в рейхе обещали квартиры и превращение из нацменов в часть большого народа. Буквально за пару месяцев уехали почти все. Остались Старая Рига и кварталы в югендстиле — их остзейцы не могли забрать с собой.
Остзейцам действительно предоставляли квартиры. Но не в Германии, а в Западной Польше. В 1945 году они вновь стали переселенцами и на сей раз их уже никто тепло не встречал. Можно, конечно, порассуждать о карме: мол, далеким потомкам выпало отвечать за грехи предков, поработивших народы в Балтии. Но повороты истории бывают неожиданны. Ныне потомки остзейцев живут в одной из самых богатых и ухоженных стран мира, зарплату считают не в сотнях латов, а в тысячах евро. И кто возьмет на себя смелость сказать, что нынешним жителям Латвии живется лучше из-за отсутствия большой немецкой общины?