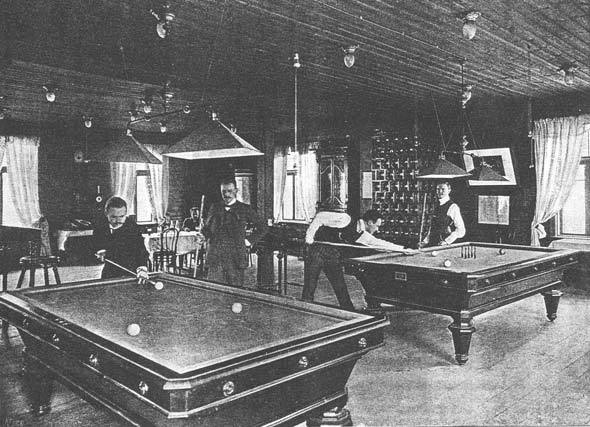Выходил в Риге в 20-30-е годы ХХ века добротный многотомный словарь «Latviešu konversacijas vārdnica». Советская власть почему-то сдала его в спецхран. За что и поплатилась: информация из этого словаря убедительно разоблачала многие мифы, которыми руководствовались в конце 80-х и начале 90-х годов большинство жителей ЛР. А так как в основе планов лежали мифы, новая экономика создавалась по заведомо ошибочному плану.
Ушная лапша местного производства
Двадцать лет назад немало говорилось и писалось о том, что в 20-30-е годы ХХ столетия независимая Латвия была мировым лидером по производству мяса и молока, самой читающей и одной из самых богатых стран мира… Для сомневающихся в изданиях, поддерживавших НФЛ, приводились статистические данные второй половины 30-х годов. Эти цифры убедительно подтверждали тезисы о былом достатке. Люди изумлялись: «И это все от нас скрывали!» Возмущались: «Такое государство было, а тут пришли оккупанты и все испортили!». Делали вывод: «Незачем изобретать велосипед, надо вернуть то, что было в прошлом».
Между тем, для того чтобы узнать об истинном прошлом, достаточно было всего лишь заглянуть в латвийский энциклопедический словарь 30-х годов. И обнаружить, что картина была не столь радужной, как того хотелось патриотично настроенным жителям конца 80-х годов.
Что же написано в «Latviešu kоnversacijas vardnica»? На основе представленной в том словаре информации можно смело сделать вывод: разница в уровне жизни Латвии и богатых стран Запада тогда была примерно такая же, как сегодня. Вот цифры. В 1930 году ВВП на душу населения оценивался в Латвии в 600 латов (учтем, что на лат тогда можно было купить куда больше, чем сейчас). В США ВВП на душу населения был в 6,5 раза больше – 3900 латов (если перевести ВВП в долларах в латовый эквивалент). И такая разница существовала невзирая на Великую депрессию. Которая, как известно, ухудшила показатели экономики в США куда быстрее, чем Латвии. В Канаде ВВП на душу населения в то время равнялся 3010 латам, в Австралии – 2480, в Великобритании – 2130, в Швейцарии – 2020. Латвийцам в момент выхода в печать очередного тома энциклопедического словаря оставалось утешаться разве что сравнением с Литвой и Эстонией – Латвия была лидером по уровню жизни в Балтии.
Стоит ли удивляться, что в 20-е годы из Латвии ехали на заработки в США так же, как сегодня отправляются в кормилицу нашу Ирландию. Более того. Сейчас у латвийцев хватает ума хоть в Бразилию не стремиться в поисках лучшей жизни. А во времена Первой республики граждане Латвии уезжали в поисках лучшей доли даже в эту страну. Правда, как свидетельствовали латвийские СМИ, быстро разочаровывались в своем выборе.
Существовали ли молочные реки?
А как же лучшее в мире сельское хозяйство, рекорды по производству мяса, молока и других продуктов? Почитаем бесстрастный энциклопедический словарь. Вот что пишут в нем, к примеру, о хлебе насущном. В Латвии урожайность пшеницы составляла 12,2 центнера с гектара, в Швейцарии – 21,5, в Англии – 22, в Нидерландах даже 27 центнеров с гектара.
В расчете на 1 жителя в Латвии за год производилось 71 куриное яйцо, в Норвегии – больше ста, а в Германии – 330.
Не подтверждает статистика и существование в Латвии начала 30-х годов ХХ столетия молочных рек. Ведь в ЛР надои молока от одной коровы составляли 1800 килограммов в год (кстати, намного меньше, чем в «колхозные» 80-е годы), в Дании – 3310 килограммов, Бельгии – 3200, Германии – 2550. Как видим, даже надои не могли быть предметом для гордости.
Впрочем, как известно, есть просто ложь, большая ложь и статистика. Если посмотреть на производство продуктов питания на душу населения в 1930 году, то картина станет для Латвии куда более благоприятной. Но вовсе не потому, что латвийское сельское хозяйство достигло западного уровня! Просто процент населения, эти продукты производящий, в Латвии был куда выше, чем на Западе. Ведь в ряде западных стран большинство населения уже проживало в городах. А в Латвии в 1930 году почти две трети жителей, напротив, жили в деревне.
Ошибка Фомы Неверующего
Итак, авторитетный латышский словарь опровергает представления, что на берегу Балтии был построен рай на земле. Но 20 лет назад многие латвийцы хотели верить совсем в другое. И руководствовались логикой: если факты противоречат моим представлениям, то горе фактам! Скажем, факт, что в 1939 году уровень промышленного производства в Латвии был ниже уровня 1913 года, попросту объявили несуществующим. Мол, оказывается, ошиблись статистики, что-то там неправильно подсчитали. Понадобилось несколько лет, для того, чтобы очевидный факт вновь получил если не всеобщее признание, то хотя бы право на существование как одна из возможных версий.
Но отчего же Латвия 20-30-х годов так сильно отставала от развитых стран Запада? Ведь до Первой мировой войны экономика Лифляндской и Курляндской губерний была вовсе не такой уж и плохой. Еще в 19 столетии в Рижском политехникуме преподавали будущие нобелевские лауреаты, а учились будущие великие ученые. В 1913 году в Риге производили самолеты, автомобили, авиационные моторы и другую наукоемкую продукцию. Сопоставим: в 1913 году завод рижские завод «Руссо-Балт» и фабрика «Руссия» производили свои автомобили, причем машины «Руссо-Балта» выигрывали международные автогонки. Через 25 лет обнаруживается явный регресс: на крупном рижском заводе «Вайрогс» могли лишь собирать производимые в Германии американской фирмой «Форд» грузовики и легковые автомобили.
Бесспорно, о промышленности в 20-30-е годы в Латвии заботились куда лучше, чем, к примеру, в 90-е. В отличие от сегодняшнего дня существовали и весьма крупные производства (смотри параллели истории в «Ракурсе» за 14 марта). Но в сравнении с 1913 годом страна явно сдавала позиции. Почему же?
Великие потрясения: мировая война, революция, отрыв от российского рынка явно не пошли латвийской экономике на пользу. Одна только эвакуация во время войны латвийской промышленности чего стоит – Латвия потеряла лучшие заводы, современные технологии и прекрасных специалистов. То есть откат назад был следствием не ошибочной экономической стратегии, а объективных обстоятельств, с которыми власти Латвии просто не могли ничего сделать. К примеру, Латвия не уходила с российского рынка добровольно, он был утерян вопреки ее воле.
Запас прочности, впрочем, оказался таков, что несмотря на экономическую катастрофу 1915 года (а иначе эвакуацию лучших предприятий не назовешь), Латвия в 20-е годы все же была не самым бедным государством в Европе! Но отнюдь не богатым.
Ложные цели
Парадокс в том, что в 30-е годы ХХ столетия Латвия пыталась уйти от того, что через 60 лет году объявят чуть ли не идеалом. В 20-30-е годы власти стремилось к созданию крупных государственных промышленных предприятий. Таких как «ВЭФ», «Вайрогс» и так далее. В республике постепенно рос удельный вес городского населения (с 20 процентов в 1920-м году до 40 процентов в 1939-м). А в первой половине 90-х годов шел обратный процесс: бездумное уничтожение индустрии. Политический истеблишмент не волновала ни утеря российского рынка (а плохие отношения с Россией не способствовали «освоению» России латвийскими предприятиями), ни отъезд за границу многих квалифицированных специалистов, ни приоритет интересов чиновников над интересами производителей… От очень плохой жизни страна ушла не за счет развития, а за счет кредитов, которых с каждым годом и государство и самоуправления и жители брали все больше и больше. Причем брали кредиты, прежде всего, на потребление.
Нынешние трудности связаны не только с мировым кризисом, но и с кризисом модели, ориентированной на жизнь в долг. Пора признать: проблема не во временных трудностях, а в том, что нынешнюю Латвию строили по иллюзорному проекту. Нужен новый, более реалистичный. Создать его можно только на основе новой идеологии, полного отказа от прежней политики. Реально ли это, судить не берусь. Но если не изменится проект, жизнь лучше не станет.